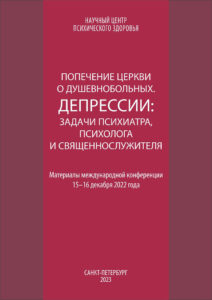
Шамрей В.К., Курасов Е.С., Рутковская Н.С.
Аннотация: В докладе освещаются вопросы отношения к самоубийству в христианстве и в некоторых других традициях. Рассматривается общее влияние религиозности на суицидальное поведение и выделены анти- и просуицидальные типы подобного влияния. Представлены результаты исследования особенностей раннего постсуицидального периода у пациентов психиатрического стационара, которое проводилось на протяжении четырех лет и учитывало наследственность, наличие соматической патологии, «триггеры» суицидального поведения, воцерковленность и другие факторы. Описаны основные заблуждения о суицидальном поведении психически больных. Сформулированы новые принципы (подходы) душепопечения лиц с суицидальным поведением, предполагающие тесное взаимодействие психиатров и священнослужителей.
Ключевые слова: суицидальное поведение, религиозность, профилактика самоубийств, душепопечение лиц с суицидальным поведением.
Уровень самоубийств является важной характеристикой общественного здоровья и считается одним из основных критериев качества жизни. В Российской Федерации, несмотря на общую положительную динамику последних лет, их частота в ряде регионов превышает критический уровень, а доля регионов со сверхвысоким уровнем суицидов (более 30,0 на 100 тыс. населения) составляет около четверти (Положий Б.С., 2019).
Основными факторами, негативно влияющими на психическое здоровье, являются: служебные и профессиональные проблемы, личные, семейные трагедии (кризисы), тяжелые заболевания и различные виды зависимости, финансово-экономическая нестабильность, информационные войны, чрезвычайные происшествия, терроризм, военные конфликты, повышенная социальная агрессия и ряд других.
Еще Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) говорил (1945, 1947): «… жизнь духа нераздельно и теснейшим образом связана со всей нервно-психической деятельностью. В нем (духе) отпечатываются все наши мысли, чувства, волевые акты – все то, что происходит в нашем феноменальном сознании…».
Психическое здоровье человека зависит как от системы межличностных связей (отношений), в которые он вовлечен, так и от состояния психического и духовно-нравственного здоровья общества в целом. Последнее в значительной степени определяется духовной зрелостью населения в вопросах истинных национальных (прежде всего, православных) ценностей, сохранения «духовных скреп общества», национальных и культурных традиций, уважительного отношения к отечественной истории.
Одной из наиболее актуальных «прикладных» проблем в реализации медико-психологических и духовно-нравственных мероприятий по профилактике суицидального поведения является необходимость тесного взаимодействия священнослужителей и врачей-специалистов (психиатров, психотерапевтов), медицинских и социальных психологов, а также среднего и младшего медицинского персонала. Эффективность такого взаимодействия может быть обеспечена только с учетом всего исторического (христианского, клинического) опыта, современных методологических и научных подходов.
Негативное отношение к самоубийству в христианстве известно на протяжении многих столетий. Так, еще в 452 г. Арльский собор определил, что самоубийство – преступление, и что оно есть не что иное, как результат дьявольской злобы. В свою очередь, Пражский собор 563 г. постановил, что самоубийцам не будет оказываться честь поминовения во время святой службы, и пение псалмов не должно сопровождать тело самоубийц до могилы (Durkheim E., 1912).
В Православии грех самоубийства складывается как из самого факта убийства (себя, в данном случае), так и грехов неверия и маловерия, малодушия, грехов отчаяния и уныния, через которые самоубийца отказывается нести свой жизненный крест, усомнившись в спасительном Промысле Божием о каждом человеке.
Общеизвестны христианские постулаты, запрещающие самоубийство:
— самоубийство – разновидность убийства;
— человек, кончающий жизнь самоубийством, отвергает над собою власть Бога и берет на себя роль судьи и господина своей жизни;
— самоубийство является бунтом против Творца;
— самоубийство есть продукт «хождения на поводу» у Сатаны;
— Иисус Христос пришёл не забрать, а дать нам жизнь;
— наша жизнь принадлежит Богу.
Рассматривая общее влияние религиозности на суицидальное поведение, можно выделить два основных влияния: анти- и просуицидальное. Первое включает в себя авраамические религии (христианство, иудаизм, ислам), воцерковлённость с детства, воспитание в вере, актуализацию религиозных представлений у пожилых людей, а также восприятие суицида как греха. Так, Петровский Военный и Морской Регламент (1716-1722 гг.) гласил: «Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу.… А ежели кто учинил в беспамятстве, в болезни, в меланхолии, то оное тело в особливом, но не в безчестном месте похоронить»[1].
Просуицидальное влияние связано с некоторыми восточными религиями (например, буддизм), тоталитарными сектами и психическими расстройствами (психозами) с псевдорелигиозным содержанием.
Исторически известны следующие основные теории самоубийств: философские, социологические (Г.Лебон, Э.Дюркгейм), психологические (З.Фрейд, К.Меннингер), медицинские (Э.Эскироль) и антипсихиатрические (Р.Лэйнг) и др. Так, Э. Дюркгейм (1897, 1912) писал, что «самоубийство – всякий смертный случай, являющийся непосредственным и опосредованным результатом положительного или отрицательного поступка, совершённого самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах». По мнению же К. Ясперса (1913), «самоубийство – это не симптом психического расстройства, не синдром и даже не признак психической аномалии, самоубийство – это форма поведения (поведенческий акт) человека, находящегося в трудной ситуации (психологическом кризисе)».
На протяжении многих лет существуют бытующие заблуждения о суицидальном поведении:
— самоубийство совершают только душевнобольные;
— люди, говорящие о самоубийстве, никогда не совершают его (8 из 10 суицидентов говорили ранее о желании покончить с собой);
— самоубийство всегда неожиданно для окружающих (в большинстве случаев высказывания о суицидальных намерениях имели место до совершения суицида);
— самоубийство – наследственное явление, бывает только в определённых семьях;
— самоубийцы всегда полны решимости свести счёты с жизнью;
— самоубийство – прерогатива определенных слоев населения (либо бедных (от нужды), либо богатых (от перенасыщения) людей).
— после преодоления кризиса опасность суицида проходит.
Отдельной проблемой является риск повторных суицидальных действий. Так, риск повторной попытки наиболее высок в течение первого года, а процент повторных попыток в популяции составляет 22-25%. Попытки самоубийства увеличивают риск завершённого самоубийства в ближайший год в 100 раз. При этом из совершивших суицидальную попытку каждый четвёртый повторяет её, а каждый десятый погибает вследствие завершённого самоубийства.
Согласно данным ВОЗ (2012), на «n» завершенных суицидов приходится 10-20 суицидальных попыток; число людей, имеющих суицидальные намерения (внутренний суицидальный дискурс) составляет 100×n, а среди близких, вовлеченных в проблему, риск совершения суицида также резко возрастает — n×8. Наличие же суицидальной попытки в анамнезе является одним из наиболее значимых факторов риска повторного суицида.
Достаточно актуальной является проблема суицидального поведения при психических расстройствах. По мнению многих авторов (Амбрумова А.Г., 1971; Положий Б.С., 2019; Розанов В.А., 2021), психические расстройства являются одной из основных предпосылок суицидального поведения.
Для профилактики повторных суицидальных действий наиболее важное значение имеет анализ особенностей течения раннего постсуицидального периода у пациентов с различной психической патологией, а также основных суицидогенных (антисуицидальных) факторов, повышающих (снижающих) риск повторного суицида больными, определяя, тем самым, адекватность и направленность проводимых профилактических мероприятий (Положий Б.С. и соавт., 2019; Каледа В.Г. с соавт., 2020; Нечипоренко В.В., Шамрей В.К. с соавт., 2019).
В целях изучения особенностей раннего постсуицидального периода у пациентов психиатрического стационара и оптимизации мероприятий по профилактике у них повторных суицидальных действий в 2019-2022 гг. было проведено исследование на кафедре психиатрии Военно-медицинской академии и в Санкт-Петербургской психиатрической больнице № 1 имени П.П. Кащенко.
На первом этапе проводилось изучение 370 архивных историй болезни пациентов: поступивших в психиатрический стационар после совершения ими суицидальной попытки (260 историй болезни) и высказывающих суицидальные мысли перед госпитализацией (110 историй болезни). Проводился анализ структуры психических расстройств, оценивалось значение и вклад преобладающих суицидогенных и антисуицидальных факторов на течение раннего постсуицидального периода.
На втором этапе было выполнено комплексное обследование больных с различными психическими расстройствами, совершивших суицидальные попытки (81 человек) и высказывающих суицидальные намерения перед поступлением в психиатрический стационар (80 человек); изучалась структура психических расстройств, особенности раннего постсуицидального периода и характер влияния различных суицидогенных и антисуицидальных факторов.
Анализ способов совершения суицидальной попытки у обследованных пациентов показал, что наиболее часто среди них отмечались отравления медикаментами (34,6 %) и нанесение самопорезов (24,7 %), причем второй способ преобладал у лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, особенно алкоголя. Менее распространенными способами являлись: попытки выброситься с высоты (18,5 %), ножевые ранения (11,1 %) и самоповешение (8,6 %). По результатам анализа архивных историй болезни, наиболее частыми способами суицидальных попыток также (за исключением ножевых ранений) являлось отравление медикаментами (43,1 %), нанесение самопорезов (34,6 %), попытки выброситься с высоты (8,1 %) и самоповешение (7,7 %). При этом последующий катамнестический анализ способов повторных суицидальных попыток (длительность катамнеза 3,5-5 лет) показал своеобразное «сужение» их спектра: более редкое использование «комбинированных» способов (2,6%, против 3,8%), а также отсутствие ранее используемых (при первичных суицидальных попытках) «вычурных» способов (самоудушение, самоповреждение головы, введение в вену воздуха, падение под транспорт, самоподжог и др.) и более частое применение самоотравления медикаментами (53,2%), нередко сопровождающегося алкогольным опьянением.
Отдельное внимание уделялось изучению социальной адаптации обследуемых пациентов, которое проводилось с использованием специальной методики «Оценка уровня социальной адаптации», позволявшей оценивать (по 5-балльной шкале) такие сферы адаптации, как уровень образования, работа (учеба), семейная адаптация, межличностные отношения, досуг, общее отношение к жизни, а также определять общую (интегральную) оценку социальной адаптации. Результаты обследования показали, что наиболее низкий уровень социальной адаптации отмечался у пациентов, страдающих легкой умственной отсталостью (2,0 ± 0,0), а также среди больных, страдающих шизофренией (2,1 ± 0,6) и расстройствами личности (2,1 ± 0,9). В свою очередь, наиболее высокие показатели общего уровня социальной адаптации имели место среди пациентов с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (2,9 ± 0,5), а также аффективными расстройствами (2,6 ± 0,4). Установлено также, что среди всех обследованных больных преобладали неработающие лица, при этом в основной группе, по сравнению с контрольной, число работающих было несколько выше (38,3 % и 22,5 %, соответственно).
При проведении оценки триггеров суицидального поведения, относящихся к группе социальных факторов, установлено, что семейные конфликты (конфликт с супругом (супругой) или партнером) были ведущими и достоверно чаще отмечались в основной группе, по сравнению с контрольной (27,2 % и 11,3 %, соответственно, p < 0,05). В отношении других триггеров (суицид или смерть близкого человека, годовщина смерти (гибели) родственника, тяжелая болезнь близких (родственников), развод, конфликт с друзьями (знакомыми), бедность, долги, денежные потери, уголовное преследование, проблемы на работе или учебе и т.д.) различия между группами не достигали статистически достоверного уровня.
Особое внимание было уделено изучению влияния религиозного фактора на суицидальное поведение больных. С этой целью в процессе клинико-психопатологического обследования пациентов, дополнительно использовалась специально разработанная анкета «Особенности религиозного мировоззрения». В результате проведенного исследования показано, что «воцерковленные» пациенты православного вероисповедания достоверно чаще встречались в контрольной группе лиц, в отличие от основной (21,1 % и 5,1 %, соответственно, р < 0,05), такие пациенты чаще посещали богослужения (76,7 % и 42,9 %, соответственно, р < 0,01). При этом в основной группе (в отличие от контрольной) существенно чаще встречались лица, активно занимающиеся оккультными практиками (20,5 % и 5,3 % соответственно, р < 0,05). Помимо оккультной практики, часть таких больных являлась адептами деструктивных сект и, в целом, большинство из них отличались низким уровнем воцерковленности.
Распределение обследуемых по типам постсуицидального периода проводилось на основании типологии, предложенной А. Амбрумовой и В. Тихоненко (1980), с выделением четырех основных типов: «критического», «манипулятивного», «аналитического», «суицидально-фиксированного». Следует отметить, что среди обследованных нами пациентов встречались также лица с «осложненным» типом постсуицида, при котором судить о критическом отношении к суицидальной попытке можно было с большой долей условности, а также лица, отрицающие суицидальные действия, несмотря на явные свидетельства их наличия. Такие больные были выделены в две самостоятельные группы – с «осложненным» и «отрицающим суицидальные действия» типом.
Установлено, что наиболее частыми являлись следующие типы постсуицида: «суицидально-фиксированный» (30,9 %), «отрицание суицидальной попытки» (19,8 %), «критический» (16,0 %) и «осложненный» (14,8 %). Реже отмечался «манипулятивный» (9,9 %) и, наиболее редко, «аналитический» (8,6 %) тип постсуицида. При этом «критический» тип преобладал у больных, страдающих органическими, включая симптоматические, психическими расстройствами (46,2 %), «суицидально-фиксированный» – у пациентов с шизофренией, шизотипическими, бредовыми (36,0 %) и аффективными (32,0 %) расстройствами, «осложненный» – у больных, страдающих расстройствами шизофренического спектра (83,3 %).
Ранее указывалось, что важной составляющей профилактики суицидального поведения является необходимость тесного взаимодействия священнослужителей и медицинских специалистов. При этом можно выделить следующие основные принципы (подходы) душепопечения:
- «Информационный» (активная пропаганда здорового образа жизни, культивирование в СМИ традиционных исторических, религиозных, культурных и нравственных ценностей).
- «Мировоззренческий» (учет религиозной принадлежности, этических и морально-нравственных аспектов личности суицидента).
- «Персонифицированный» (учет культуральных, этнических, возрастных, гендерных, профессиональных и др. индивидуальных аспектов суицидентов).
- «Дифференцированный» (учет факторов (способствующих или препятствующих) и особенностей этапа суицидального поведения: пресуицидального, постсуицидального).
- «Микросоциальный» (учет особенностей микросоциального окружения, необходимости оказания помощи как суициденту, так и членам его семьи, близким и родственникам).
- «Клинический» (учет особенностей психического и соматического здоровья суицидентов).
- «Соработничества» (вовлеченность в оказание помощи священников, врачей-психиатров, психотерапевтов, психологов и других специалистов в области психического здоровья).
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что дальнейшее совершенствование суицидологической помощи возможно лишь при тесном сотрудничестве врачей-психиатров со священниками при четком разграничении сфер их компетенции.
В настоящее время наработан серьезный опыт сотрудничества врачей-психиатров и священников, которое началось в начале 90-х годов, когда в Московской духовной семинарии был введён новый предмет – пастырская психиатрия. У истоков этого направления стоял профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов (1899–1979), который написал первое специальное руководство по «Пастырской психиатрии».
Вместе с тем, не менее важным является преподавание и в медицинских ВУЗах теологических знаний и, прежде всего, по основам православия, других традиционных для России конфессий и сектоведения. В Военно-медицинской академии в настоящее время для различных категорий слушателей (пока на факультативной основе) возрождаются традиции кафедры богословия, закрытой в богоборческие времена.
В завершение сказанного уместно привести знаменитую фразу профессора кафедры химии Императорской медико-хирургической академии А.П.Бородина: «Всем тем, чего мы не имеем, мы обязаны только себе!»
Использованная литература:
- Амбрумова А. Г. Анализ случаев самоубийств и суицидальных попыток у больных шизофренией //Материалы научно практической конференции «Вопросы клиники и современной терапии психических заболеваний».-М. – 1971. – С. 21-32.
- Амбрумова А. Г., Тихоненко В. А. Диагностика суицидального поведения: Методические рекомендации. – 1980.
- Запись о душегубстве // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства /под общ. ред. О.И. Чистякова; отв. ред. тома А.Д. Горский. М., 1985.
- Каледа В. Г. и др. Особенности суицидального поведения при психических расстройствах юношеского возраста //Журнал неврологии и психиатрии им. CC Корсакова. – 2020. – Т. 120. – №. 12. – С. 30-36.
- Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. М., 1997. С. 8–61.
- Положий Б. С. Суициды среди несовершеннолетних (эпидемиологический аспект) //Суицидология. – 2019. – Т. 10. – №. 1 (34). – С. 21-26.
- Положий Б.С. Суициды среди несовершеннолетних (эпидемиологический аспект). Суицидология. 2019, Том 10, №1 (34):21-26. doi.org/10.32878/suiciderus.19-10-01(34)-21-26
- Розанов В. А. К вопросу о гендерном парадоксе в суицидологии-современный контекст //Суицидология. – 2021. – Т. 12. – №. 1 (42). – С. 80-108.
- Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) «Дух, душа и тело». Доступно по ссылке (на 10.03.23): https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/
- Шамрей В. К. Нечипоренко, В. В., Лыткин, В. М., Зун, С. А., Ятманов, А.Н. О филосовской, культуральной и клинической трактовках некоторых ключевых понятий суицидологии (обзор литературы) //Вестник новых медицинских технологий. – 2022. – Т. 29. – №. 3. – С. 9-16.
- Durkheim E. Le suicide: étude de sociologie. – Alcan, 1897.
- Durkheim E. Suicide: a sociological essay //by WA Bazarow. Saint-Petersburg: NP Karbasnikow. – 1912.
- Esquirol É. Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal. – Tircher, 1838. – V. 1.
- Freud S. Contributions to a discussion on suicide //The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works. – 1957. – P. 231-232.
- Jaspers K. Kausale und „verständliche “zusammenhänge zwischen schicksal und psychose bei der dementia praecox (Schizophrenie) //Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. – 1913. – V. 14. – P. 158-263.
- Laing R. D., Esterson A. Sanity, madness and the family. – Taylor & Francis, 2016.
- LeBon, G. The crowd: A study of the popular mind. London: Ernest Benn, 1896
- Menninger K. A. Psycho-analytic aspects of suicide //The International Journal of Psycho-Analysis. – 1933. – V. 14. – P. 376.
[1] http://www.historyru.com/docs/rulers/piter-1/piter-1-doc20.html#19

